Рекламный баннер 990x90px bantop
«Мы северяне», — говорят о своей семье Николай Геннадьевич и Любовь Ивановна Шигаевы
07:21 08.07.2025 16+
«Мы северяне», — говорят о своей семье Николай Геннадьевич и Любовь Ивановна Шигаевы. В этих словах — нежность и сердечное тепло, гордость и ностальгическая грусть. Так вспоминают о чём-то бесконечно дорогом и очень важном. Именно такими остаются для них те долгие годы, что они жили и работали на Чукотке.
Улетели они туда через семь месяцев после свадьбы, в июне 1973 года. Решились на это, не раздумывая: получили вызов, прошли все необходимые проверки — и в путь. Для Николая Геннадьевича это была вторая попытка поработать на Чукотке. Первый раз не попал, потому что отцу ампутировали ногу, матери нужно было помогать. «Он инвалид войны, — рассказал Николай Геннадьевич, — в 19 лет ранен был, и с тех пор рана гноилась постоянно. Нас в семье — пятеро, я старший. С третьего класса в колхозе работал — пас стадо свиней. А это 400 голов. Вместе со мной — ещё двое пастухов, только они на четыре года старше меня, с 46-го. Два сезона — все летние каникулы мы работали с полтретьего утро до десяти ночи. После пятого класса с мужиками сено косил в лугах. Матери помогал наш участок скосить — отец же почти постоянно в госпитале лежал. Через год уже на тракторе работал, прицепщиком был, а в старших классах — штурвальным на комбайне.
У нас в Съезжем восьмилетка была, поэтому 9 и 10 классы мы учились в Максимовской школе. Там и познакомились с Любой, хотя она тоже ведь из Съезжего. Помню, это было 8 Марта. Она со своими одноклассницами на сцене выступала. Я говорю другу: «Выбирай себе девчонку». Он Любу выбрал. А мне вдруг как-то неспокойно сделалось. Я подошёл, пригляделся к ней. Нет, думаю, такая самому нужна. Глаза её мне очень понравились. Хрупкая, маленькая — прямо сердце сжалось. Позже узнал, что Люба сирота, — и совсем прикипел к ней. После свадьбы дед Игнат наставлял меня: «Женился, — живи, людей не смеши. Тем более — сирота она. Смотри у меня!» Его наказ на всю жизнь запомнил. Он для меня примером был и в жизни, и в работе. Игнат Дудочкин всю войну прошёл, в Книге памяти о нём написано. Очень я уважал его. От него воспитание получил. Как и он, всегда старался быть первым в любом деле».
«Мама умерла, когда мне восемь лет было, — продолжает разговор Любовь Ивановна. — Я всё осознавала. Очень тяжело было. На похоронах меня постоянно кто-нибудь держал, потому что бросалась к маме в могилу, не хотела без неё оставаться здесь. От горя заболела сильно, бабушка меня в Пироговку возила на лечение. Отец на сороковой день женился. У мачехи был сын — мой ровесник. Через год нас пятеро стало в семье.
Ту встречу с Колей в Максимовской школе я тоже хорошо помню. Он озорной был, но отличницы ведь таких и выбирают. Я тогда главное поняла, что он надёжный и добрый человек, сильный и решительный. И не ошиблась. Он столько раз проявлял это по жизни. Особенно там — на Севере. Будь он другим, разве смог бы столько лет проработать на золотом прииске, в тяжелейших условиях».
«Да и от Любы потребовалось много сил. Она оказалась крепким орешком, я временами просто поражался её выдержке и терпению, — говорит Николай Геннадьевич. — Мы ведь не представляли, что ждёт нас на Чукотке. И сразу же — первое испытание. В аэропорту Анадыря пришлось ждать вертолёта, чтобы лететь на прииск Отрожный, целых две недели. Июнь, всё вскрывается, туманы — погода нелётная. В аэропорту — цементные полы и несколько кресел, все, конечно, заняты. Чукчи ходят полупьяные в болоньевых плащах с этикетками. Люба беременная, у неё токсикоз, а в буфете — только оленина. Договорился в столовой, чтобы ей кашки варили. Сидели сначала на чемоданах, хорошо, один особенно крепкий был — дембельский мой, с железными уголками. Потом одно кресло выхватили, потом второе. Сдвигали их, чтобы кое-как лечь можно было. Когда Любе совсем невмоготу становилось, она признавалась: были б деньги на обратную дорогу, улетела домой. Но мы все 700 рублей, что на свадьбу подарили, потратили на билеты. Так что, терпели, ждали погоды.
Овощи, которые мы туда везли, испортились за это время. Нас попросили ещё самогонку привезти — там же сухой закон был. Для конспирации дед Игнат свою 70-градусную, двойной перегонки налил в грелку, которую не помыл. От долгого хранения самогонка так пропахла резиной, что мужики её «протектором» называли».
«Так сложилось, — вспоминает Любовь Ивановна, — что буквально следом за нами на прииск Отрожный грузовой вертолёт доставил шестнадцать коров. Для них ферму построили. Потом и свиней завезли, теплицу построили огуречную. На прииске работала Колина тётя, у неё мы и жили первое время. Июнь на Чукотке — весенний месяц, щавель, дикий лук появляются. Пойдём мы с тётушкой за ними, а рядом с полянкой, где они растут, коровы пасутся сами по себе, без пастуха. Мне так молока хотелось! Подою себе в ладошку и попью».
«А у меня с теми коровами другие воспоминания, — говорит Николай Геннадьевич. — Только я вышел на работу в геологоразведку, вызвали в отдел кадров, поинтересовались для порядка, умею ли я косить, и велели с завтрашнего дня собирать бригаду. Мы косили, копнили, стоговали. Таких великанов ставили, что идущие по реке засматривались на них и на мель налетали. Сенокосы были за 30, а то и 40 километров от прииска. Потом на тракторах по зимнику привозили это сено. И так каждое 15 июня. Где бы я ни был, вызывают, собираю бригаду.
Вообще, на прииске многое делалось для людей. Были спортзал, клуб, детский сад и школа, в которой прекрасные специалисты работали. Младшие классы, например, вела учительница из Москвы. Дочки наши получили отличную подготовку в школе. На прииск ведь со всего Союза ехали, попасть туда сложно было, брали лучших. К тому же это погранзона, Аляска рядом. Когда вызов получили, и нас, и всю родню месяц проверяли».
«Самым слабым там было медицинское обслуживание, — с сожалением вспоминает Любовь Ивановна. — Поэтому роды обернулись для меня тяжёлыми испытаниями. Рожала я в Угольных Копях, это за 300 километров от нашего прииска. Больница на горе, автобус доходит только до её подножия. 5 декабря. Мороз. На мне тяжёлое зимнее пальто, в руках чемодан. Когда добралась, руки не чувствовали ничего. Мне помогли раздеться, накормили оладушками с киселём. 10 декабря я родила дочку. В больнице холодно. В туалет — на ведро. Простыла я сильно, начался мастит. Месяц мы там пролежали. Потом Коля прилетел, забрал нас. Вскоре на работу вышла. Женщинам на прииске не было работы, а тут предложили место уборщицы в клубе. Там ещё сильней простыла. Грудь опять воспалилась, температура такая, что вызвали санрейс, отправили меня в больницу, прооперировали. Коля ушёл с буровой, чтобы нянчить четырёхмесячную Алёнку. Днём тётушка помогала, а ночью один с ней оставался. И так целый месяц. В больнице обнаружили большую опухоль во второй груди, сказали, что с этой проблемой нужно лететь на материк. И мы с дочкой полетели. Полтора часа на вертолёте, больше девяти часов на самолёте до Москвы. Повезло, что на ТУ134, а если бы на ИЛ, то — 15 часов с пересадкой. Дочка орёт, а у меня такая слабость после операции, постоянно спать хочется. И одна женщина, видя моё состояние, взяла Алёнку на руки, перепеленала (памперсов же не было тогда), попросила стюардесс подогреть детское питание, сварить кашку. И так всё время, пока летели. В московском аэропорту не отходила от меня, дождалась, пока я взяла билет на Самару. Для северян такое отношение друг к другу — обычное дело. В тех условиях, в тех обстоятельствах без доброты и готовности помочь нельзя было. Особенно мы, женщины, знали цену этому. Отцы и мужья, вернувшись с двухнедельной вахты, уезжали на рыбалку и охоту, родители далеко, прижаться не к кому, поэтому мы дорожили друг другом, поддерживали во всём. У нашей соседки, например, был маленький ребёнок, которого она растила одна, — муж утонул. Заболела она, в больницу попала — мы с малышом нянчились».
«Да, охота там была знатной, — вспоминает Николай Геннадьевич. — И на медведя ходили. Шкуру одного из них мы с собой привезли, вот уже 30 лет служит нам ковриком. Ружья свободно в магазине покупали. В нашей бригаде мы на дни рожденья дарили друг другу или золотые часы, или ружьё с серебряным ложем. Очень у нас дружная бригада была, все ребята надёжные, проверенные. Других и быть не могло. Если человек психанул, сорвался, заныл, отлынивать начал, я, как бригадир, сообщал по рации: присылайте вездеход, забирайте его. Объяснения не нужны были. Начальник партии понимал: такому в тундре нельзя. Это геологоразведка. Условия суровые, ситуации крайне сложные бывают, поэтому мы друг в друге должны быть на 100 процентов уверены. Как-то поехали мы с Толей Ведищевым за соляркой и попали в сильный туман. Двигаться дальше нельзя — там такие болота, что вместе с техникой можно уйти. Слышим, буровая рядом стучит, а ехать нельзя. Двое суток в тракторе сидели. Случалось, в пургу попадали. И тогда я или впереди трактора шёл, чтобы ориентиром быть, или на капот садился. Когда в Анадырь шли рейсом, почти неделю ехал на капоте. Мне оттуда видно, где бровка, а из кабины нет. Я ему отмашку делал — правей или левей держаться. И мы доехали, а были случаи, замерзали люди, сбившись с дороги. Вездеход потом шёл, забирал их, а технику оставляли — запустить её было целой проблемой.
Вообще, с доставкой солярки и оборудования много было сложностей. Дешевле было по зимнику через лиман, потом по реке Анадырь. Лиман проскакиваешь часа в четыре утра, пока отлив. Дверки открываешь, давишь петуха (максимальную скорость) — и летишь. Останавливаться нельзя — лёд гуляет, есть трещины больше метра шириной.
Однажды на гусеничном тракторе поехали за соляркой на косу Николая — там база была. 11 суток шли. Приехали на буровую. Спарок (напарник) сказал, что неважно чувствует себя, остался, я один поехал. Зацепил 17-кубовую сигару (ёмкость) на санях и поехал. Добрался до базы, а там ни столбов, ни домов, ни складов — всё белым-бело. Оказалось, на этой косе Николая 11 суток пурга мела. Вышел из трактора, смотрю, мои сани метра на полтора загородили путь, а за мной — Т170 тоже с ёмкостью. Сажусь, включаю скорость. Только тронулся — сразу полетел куда-то. Ударился, потерял сознание. Когда очнулся, увидел, что трактор немного на боку лежит. Дверку открыл, вылез, как из танка, понял, что в палаточный склад провалился, его после пурги не успели флажками оградить. А склады там огромные, в них Уралы и Кировцы с прицепами заходили. Люди подбежали. Узнав, что меня Николаем зовут, сказали, что повезло мне, на этой косе уже три Николая погибли. Старатели пригнали кран на гусеницах, подняли меня — северяне друг друга не бросают в беде.
Опасности там на каждом шагу были. Могло плашкой убить, когда в мороз трубу на буровой обсаживали. Можно было с 12-метровой мачты упасть, когда в пургу закреплял на ней слетевший трос. Мы привыкали к этому, воспринимали как неизбежность. Адреналина всегда было в избытке, он сил придавал, ведь работы много, и она очень тяжёлая. Только в минус 50 останавливалась, потому что железо рассыпалось, не выдерживало таких морозов. А мы в резиновых сапогах-болотниках работали, в которые для тепла вставляли войлочные чижи».
«У женщин тоже свои трудности и опасности были, — вспоминает Любовь Ивановна. — Жили мы первое время в балке — вагончике, обшитом рубероидом. Вода привозная, на семью — бочка 300-литровая. Потом две комнаты нам в общежитии дали, через несколько лет — квартиру. Своя кухня, две комнаты — такая радость! Вернувшись с материка, я сторожем на складах работала. Алёнку с собой брала. Привезу её на саночках, положу прямо в шубке досыпать и печку топлю. Самое страшное там — пурги. Метёт так, что света белого не видно. Бывало, двухэтажный дом полностью заносило, за окном — словно белая простыня. Однажды в пургу я не сразу заметила, что дочка выпала из санок, а ведь по этой дороге и тракторы, и водовозка ездили. Перепугалась, конечно. Слава Богу, всё обошлось.
В подростковом возрасте медкомиссия направила Алёнку к врачу в Анадырь. Я тогда завскладом работала, большая материальная ответственность. Отдала ключи главному инженеру — ребёнок дороже, и мы улетели. Пятиминутный осмотр не подтвердил опасения, но домой мы вернулись через неделю — мела пурга. Коля в тундре, сотовых нет. Так и жили…
И всё же хорошего, интересного, радостного было больше. Наверное, ещё и потому, что Север учит дорожить даже самой малой радостью, учит крепкому, подлинному оптимизму. Особенной радостью было отправлять родственникам посылки с гостинцами, привозить подарки, когда в отпуск прилетали. С Чукотки мы везли ткани, постельное бельё, мутоновые шубки и шапки детские, гречку, тушёнку, сгущёнку и многое другое. А ещё — коробку «Беломора», это 400 пачек. Когда купили кооперативную квартиру в Калининградской области, привозили подарки и оттуда — там ещё большее изобилие было».
«Да, всё хорошо складывалось, — продолжает разговор Николай Геннадьевич. — Тяжёлым трудом мы заработали немало денег. Я мечтал, выйдя на пенсию, купить дочкам по квартире в Самаре, а себе — коня и катер. Думали, на проценты будем жить. Но тут началась перестройка, прииск стал приходить в упадок. Вскоре закрыли школу, детсад и больницу — прииск уже не тянул их. Младшая дочь к этому времени закончила 9 классов, старшая училась на последнем курсе института в Самаре. Люба с дочерьми уехали в 95-м году, а я ещё два года проработал на прииске. Наше звено бралось за аккордные, хорошо оплачиваемые наряды, ведь все накопления «сгорели» после гайдаровской реформы, нужны были деньги, чтобы купить кооперативную квартиру в Самаре. Пока она строилась, их требовали всё больше и больше. Нервы уже были на пределе. Наконец-то она — в собственности, Люба с дочками сделали там небольшой ремонт своими силами, переехали из Съезжего в Самару. Когда я вернулся с Чукотки, мы пожили несколько лет в городе и перебрались в родное село, вместе с дочерьми построили дом, в котором и живём сейчас с Любой.
В финансовом плане мы много потеряли в те годы, но справились с этим, пережили как-то. А вот мой съезженский друг, с которым вместе работали на прииске, перенёс из-за этого инсульт. У него «сгорело» 150 тысяч, а хорошая, новая машина в те годы стоила 5 тысяч. Сейчас мы с ним занимаемся пчёлами — так мне посоветовал невролог. Я ведь травму получил на прииске, а из-за постоянной вибрации на буровой — профзаболевание. У пчёл — уникальная способность, они лечат даже на расстоянии 300 метров. Мы с Виктором убедились в этом на себе.
Нам очень дороги воспоминания о том времени. Слышал, что прииск Отрожный хотят восстанавливать. Я бы с радостью поехал туда. Там же всё родное, всё исхожено. Разведывая золото, мы бурили скважины каждые 10-20 метров. Мне доводилось организовывать два отряда, с которыми работал на отдалённых участках Пэкульней и Эльденыр. Так что, я знаю, где там какой балок, где какая техника стоит.
У нас много кассет с видео, записанных на прииске, на охоте и рыбалке. Есть и чёрно-белые фотографии. Вот на этой, например, — мы с друзьями около балка, в котором жили в 70-е годы; на этой — наши дочки; здесь — мы с напарником около бурового станка; а тут — Первомайская демонстрация на прииске.
Вот ведь удивительное дело: и трудно было на Чукотке, и опасно, но вспоминаешь об этом времени с такой любовью. Про наш прииск Отрожный кто-то сказал: «Там — лучшие люди, там — лучшие годы». Полностью согласны с этим».
Улетели они туда через семь месяцев после свадьбы, в июне 1973 года. Решились на это, не раздумывая: получили вызов, прошли все необходимые проверки — и в путь. Для Николая Геннадьевича это была вторая попытка поработать на Чукотке. Первый раз не попал, потому что отцу ампутировали ногу, матери нужно было помогать. «Он инвалид войны, — рассказал Николай Геннадьевич, — в 19 лет ранен был, и с тех пор рана гноилась постоянно. Нас в семье — пятеро, я старший. С третьего класса в колхозе работал — пас стадо свиней. А это 400 голов. Вместе со мной — ещё двое пастухов, только они на четыре года старше меня, с 46-го. Два сезона — все летние каникулы мы работали с полтретьего утро до десяти ночи. После пятого класса с мужиками сено косил в лугах. Матери помогал наш участок скосить — отец же почти постоянно в госпитале лежал. Через год уже на тракторе работал, прицепщиком был, а в старших классах — штурвальным на комбайне.
У нас в Съезжем восьмилетка была, поэтому 9 и 10 классы мы учились в Максимовской школе. Там и познакомились с Любой, хотя она тоже ведь из Съезжего. Помню, это было 8 Марта. Она со своими одноклассницами на сцене выступала. Я говорю другу: «Выбирай себе девчонку». Он Любу выбрал. А мне вдруг как-то неспокойно сделалось. Я подошёл, пригляделся к ней. Нет, думаю, такая самому нужна. Глаза её мне очень понравились. Хрупкая, маленькая — прямо сердце сжалось. Позже узнал, что Люба сирота, — и совсем прикипел к ней. После свадьбы дед Игнат наставлял меня: «Женился, — живи, людей не смеши. Тем более — сирота она. Смотри у меня!» Его наказ на всю жизнь запомнил. Он для меня примером был и в жизни, и в работе. Игнат Дудочкин всю войну прошёл, в Книге памяти о нём написано. Очень я уважал его. От него воспитание получил. Как и он, всегда старался быть первым в любом деле».
«Мама умерла, когда мне восемь лет было, — продолжает разговор Любовь Ивановна. — Я всё осознавала. Очень тяжело было. На похоронах меня постоянно кто-нибудь держал, потому что бросалась к маме в могилу, не хотела без неё оставаться здесь. От горя заболела сильно, бабушка меня в Пироговку возила на лечение. Отец на сороковой день женился. У мачехи был сын — мой ровесник. Через год нас пятеро стало в семье.
Ту встречу с Колей в Максимовской школе я тоже хорошо помню. Он озорной был, но отличницы ведь таких и выбирают. Я тогда главное поняла, что он надёжный и добрый человек, сильный и решительный. И не ошиблась. Он столько раз проявлял это по жизни. Особенно там — на Севере. Будь он другим, разве смог бы столько лет проработать на золотом прииске, в тяжелейших условиях».
«Да и от Любы потребовалось много сил. Она оказалась крепким орешком, я временами просто поражался её выдержке и терпению, — говорит Николай Геннадьевич. — Мы ведь не представляли, что ждёт нас на Чукотке. И сразу же — первое испытание. В аэропорту Анадыря пришлось ждать вертолёта, чтобы лететь на прииск Отрожный, целых две недели. Июнь, всё вскрывается, туманы — погода нелётная. В аэропорту — цементные полы и несколько кресел, все, конечно, заняты. Чукчи ходят полупьяные в болоньевых плащах с этикетками. Люба беременная, у неё токсикоз, а в буфете — только оленина. Договорился в столовой, чтобы ей кашки варили. Сидели сначала на чемоданах, хорошо, один особенно крепкий был — дембельский мой, с железными уголками. Потом одно кресло выхватили, потом второе. Сдвигали их, чтобы кое-как лечь можно было. Когда Любе совсем невмоготу становилось, она признавалась: были б деньги на обратную дорогу, улетела домой. Но мы все 700 рублей, что на свадьбу подарили, потратили на билеты. Так что, терпели, ждали погоды.
Овощи, которые мы туда везли, испортились за это время. Нас попросили ещё самогонку привезти — там же сухой закон был. Для конспирации дед Игнат свою 70-градусную, двойной перегонки налил в грелку, которую не помыл. От долгого хранения самогонка так пропахла резиной, что мужики её «протектором» называли».
«Так сложилось, — вспоминает Любовь Ивановна, — что буквально следом за нами на прииск Отрожный грузовой вертолёт доставил шестнадцать коров. Для них ферму построили. Потом и свиней завезли, теплицу построили огуречную. На прииске работала Колина тётя, у неё мы и жили первое время. Июнь на Чукотке — весенний месяц, щавель, дикий лук появляются. Пойдём мы с тётушкой за ними, а рядом с полянкой, где они растут, коровы пасутся сами по себе, без пастуха. Мне так молока хотелось! Подою себе в ладошку и попью».
«А у меня с теми коровами другие воспоминания, — говорит Николай Геннадьевич. — Только я вышел на работу в геологоразведку, вызвали в отдел кадров, поинтересовались для порядка, умею ли я косить, и велели с завтрашнего дня собирать бригаду. Мы косили, копнили, стоговали. Таких великанов ставили, что идущие по реке засматривались на них и на мель налетали. Сенокосы были за 30, а то и 40 километров от прииска. Потом на тракторах по зимнику привозили это сено. И так каждое 15 июня. Где бы я ни был, вызывают, собираю бригаду.
Вообще, на прииске многое делалось для людей. Были спортзал, клуб, детский сад и школа, в которой прекрасные специалисты работали. Младшие классы, например, вела учительница из Москвы. Дочки наши получили отличную подготовку в школе. На прииск ведь со всего Союза ехали, попасть туда сложно было, брали лучших. К тому же это погранзона, Аляска рядом. Когда вызов получили, и нас, и всю родню месяц проверяли».
«Самым слабым там было медицинское обслуживание, — с сожалением вспоминает Любовь Ивановна. — Поэтому роды обернулись для меня тяжёлыми испытаниями. Рожала я в Угольных Копях, это за 300 километров от нашего прииска. Больница на горе, автобус доходит только до её подножия. 5 декабря. Мороз. На мне тяжёлое зимнее пальто, в руках чемодан. Когда добралась, руки не чувствовали ничего. Мне помогли раздеться, накормили оладушками с киселём. 10 декабря я родила дочку. В больнице холодно. В туалет — на ведро. Простыла я сильно, начался мастит. Месяц мы там пролежали. Потом Коля прилетел, забрал нас. Вскоре на работу вышла. Женщинам на прииске не было работы, а тут предложили место уборщицы в клубе. Там ещё сильней простыла. Грудь опять воспалилась, температура такая, что вызвали санрейс, отправили меня в больницу, прооперировали. Коля ушёл с буровой, чтобы нянчить четырёхмесячную Алёнку. Днём тётушка помогала, а ночью один с ней оставался. И так целый месяц. В больнице обнаружили большую опухоль во второй груди, сказали, что с этой проблемой нужно лететь на материк. И мы с дочкой полетели. Полтора часа на вертолёте, больше девяти часов на самолёте до Москвы. Повезло, что на ТУ134, а если бы на ИЛ, то — 15 часов с пересадкой. Дочка орёт, а у меня такая слабость после операции, постоянно спать хочется. И одна женщина, видя моё состояние, взяла Алёнку на руки, перепеленала (памперсов же не было тогда), попросила стюардесс подогреть детское питание, сварить кашку. И так всё время, пока летели. В московском аэропорту не отходила от меня, дождалась, пока я взяла билет на Самару. Для северян такое отношение друг к другу — обычное дело. В тех условиях, в тех обстоятельствах без доброты и готовности помочь нельзя было. Особенно мы, женщины, знали цену этому. Отцы и мужья, вернувшись с двухнедельной вахты, уезжали на рыбалку и охоту, родители далеко, прижаться не к кому, поэтому мы дорожили друг другом, поддерживали во всём. У нашей соседки, например, был маленький ребёнок, которого она растила одна, — муж утонул. Заболела она, в больницу попала — мы с малышом нянчились».
«Да, охота там была знатной, — вспоминает Николай Геннадьевич. — И на медведя ходили. Шкуру одного из них мы с собой привезли, вот уже 30 лет служит нам ковриком. Ружья свободно в магазине покупали. В нашей бригаде мы на дни рожденья дарили друг другу или золотые часы, или ружьё с серебряным ложем. Очень у нас дружная бригада была, все ребята надёжные, проверенные. Других и быть не могло. Если человек психанул, сорвался, заныл, отлынивать начал, я, как бригадир, сообщал по рации: присылайте вездеход, забирайте его. Объяснения не нужны были. Начальник партии понимал: такому в тундре нельзя. Это геологоразведка. Условия суровые, ситуации крайне сложные бывают, поэтому мы друг в друге должны быть на 100 процентов уверены. Как-то поехали мы с Толей Ведищевым за соляркой и попали в сильный туман. Двигаться дальше нельзя — там такие болота, что вместе с техникой можно уйти. Слышим, буровая рядом стучит, а ехать нельзя. Двое суток в тракторе сидели. Случалось, в пургу попадали. И тогда я или впереди трактора шёл, чтобы ориентиром быть, или на капот садился. Когда в Анадырь шли рейсом, почти неделю ехал на капоте. Мне оттуда видно, где бровка, а из кабины нет. Я ему отмашку делал — правей или левей держаться. И мы доехали, а были случаи, замерзали люди, сбившись с дороги. Вездеход потом шёл, забирал их, а технику оставляли — запустить её было целой проблемой.
Вообще, с доставкой солярки и оборудования много было сложностей. Дешевле было по зимнику через лиман, потом по реке Анадырь. Лиман проскакиваешь часа в четыре утра, пока отлив. Дверки открываешь, давишь петуха (максимальную скорость) — и летишь. Останавливаться нельзя — лёд гуляет, есть трещины больше метра шириной.
Однажды на гусеничном тракторе поехали за соляркой на косу Николая — там база была. 11 суток шли. Приехали на буровую. Спарок (напарник) сказал, что неважно чувствует себя, остался, я один поехал. Зацепил 17-кубовую сигару (ёмкость) на санях и поехал. Добрался до базы, а там ни столбов, ни домов, ни складов — всё белым-бело. Оказалось, на этой косе Николая 11 суток пурга мела. Вышел из трактора, смотрю, мои сани метра на полтора загородили путь, а за мной — Т170 тоже с ёмкостью. Сажусь, включаю скорость. Только тронулся — сразу полетел куда-то. Ударился, потерял сознание. Когда очнулся, увидел, что трактор немного на боку лежит. Дверку открыл, вылез, как из танка, понял, что в палаточный склад провалился, его после пурги не успели флажками оградить. А склады там огромные, в них Уралы и Кировцы с прицепами заходили. Люди подбежали. Узнав, что меня Николаем зовут, сказали, что повезло мне, на этой косе уже три Николая погибли. Старатели пригнали кран на гусеницах, подняли меня — северяне друг друга не бросают в беде.
Опасности там на каждом шагу были. Могло плашкой убить, когда в мороз трубу на буровой обсаживали. Можно было с 12-метровой мачты упасть, когда в пургу закреплял на ней слетевший трос. Мы привыкали к этому, воспринимали как неизбежность. Адреналина всегда было в избытке, он сил придавал, ведь работы много, и она очень тяжёлая. Только в минус 50 останавливалась, потому что железо рассыпалось, не выдерживало таких морозов. А мы в резиновых сапогах-болотниках работали, в которые для тепла вставляли войлочные чижи».
«У женщин тоже свои трудности и опасности были, — вспоминает Любовь Ивановна. — Жили мы первое время в балке — вагончике, обшитом рубероидом. Вода привозная, на семью — бочка 300-литровая. Потом две комнаты нам в общежитии дали, через несколько лет — квартиру. Своя кухня, две комнаты — такая радость! Вернувшись с материка, я сторожем на складах работала. Алёнку с собой брала. Привезу её на саночках, положу прямо в шубке досыпать и печку топлю. Самое страшное там — пурги. Метёт так, что света белого не видно. Бывало, двухэтажный дом полностью заносило, за окном — словно белая простыня. Однажды в пургу я не сразу заметила, что дочка выпала из санок, а ведь по этой дороге и тракторы, и водовозка ездили. Перепугалась, конечно. Слава Богу, всё обошлось.
В подростковом возрасте медкомиссия направила Алёнку к врачу в Анадырь. Я тогда завскладом работала, большая материальная ответственность. Отдала ключи главному инженеру — ребёнок дороже, и мы улетели. Пятиминутный осмотр не подтвердил опасения, но домой мы вернулись через неделю — мела пурга. Коля в тундре, сотовых нет. Так и жили…
И всё же хорошего, интересного, радостного было больше. Наверное, ещё и потому, что Север учит дорожить даже самой малой радостью, учит крепкому, подлинному оптимизму. Особенной радостью было отправлять родственникам посылки с гостинцами, привозить подарки, когда в отпуск прилетали. С Чукотки мы везли ткани, постельное бельё, мутоновые шубки и шапки детские, гречку, тушёнку, сгущёнку и многое другое. А ещё — коробку «Беломора», это 400 пачек. Когда купили кооперативную квартиру в Калининградской области, привозили подарки и оттуда — там ещё большее изобилие было».
«Да, всё хорошо складывалось, — продолжает разговор Николай Геннадьевич. — Тяжёлым трудом мы заработали немало денег. Я мечтал, выйдя на пенсию, купить дочкам по квартире в Самаре, а себе — коня и катер. Думали, на проценты будем жить. Но тут началась перестройка, прииск стал приходить в упадок. Вскоре закрыли школу, детсад и больницу — прииск уже не тянул их. Младшая дочь к этому времени закончила 9 классов, старшая училась на последнем курсе института в Самаре. Люба с дочерьми уехали в 95-м году, а я ещё два года проработал на прииске. Наше звено бралось за аккордные, хорошо оплачиваемые наряды, ведь все накопления «сгорели» после гайдаровской реформы, нужны были деньги, чтобы купить кооперативную квартиру в Самаре. Пока она строилась, их требовали всё больше и больше. Нервы уже были на пределе. Наконец-то она — в собственности, Люба с дочками сделали там небольшой ремонт своими силами, переехали из Съезжего в Самару. Когда я вернулся с Чукотки, мы пожили несколько лет в городе и перебрались в родное село, вместе с дочерьми построили дом, в котором и живём сейчас с Любой.
В финансовом плане мы много потеряли в те годы, но справились с этим, пережили как-то. А вот мой съезженский друг, с которым вместе работали на прииске, перенёс из-за этого инсульт. У него «сгорело» 150 тысяч, а хорошая, новая машина в те годы стоила 5 тысяч. Сейчас мы с ним занимаемся пчёлами — так мне посоветовал невролог. Я ведь травму получил на прииске, а из-за постоянной вибрации на буровой — профзаболевание. У пчёл — уникальная способность, они лечат даже на расстоянии 300 метров. Мы с Виктором убедились в этом на себе.
Нам очень дороги воспоминания о том времени. Слышал, что прииск Отрожный хотят восстанавливать. Я бы с радостью поехал туда. Там же всё родное, всё исхожено. Разведывая золото, мы бурили скважины каждые 10-20 метров. Мне доводилось организовывать два отряда, с которыми работал на отдалённых участках Пэкульней и Эльденыр. Так что, я знаю, где там какой балок, где какая техника стоит.
У нас много кассет с видео, записанных на прииске, на охоте и рыбалке. Есть и чёрно-белые фотографии. Вот на этой, например, — мы с друзьями около балка, в котором жили в 70-е годы; на этой — наши дочки; здесь — мы с напарником около бурового станка; а тут — Первомайская демонстрация на прииске.
Вот ведь удивительное дело: и трудно было на Чукотке, и опасно, но вспоминаешь об этом времени с такой любовью. Про наш прииск Отрожный кто-то сказал: «Там — лучшие люди, там — лучшие годы». Полностью согласны с этим».
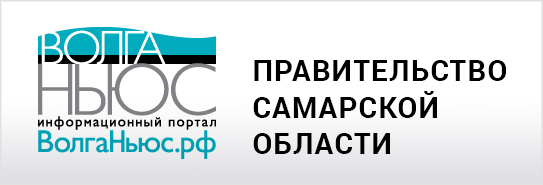
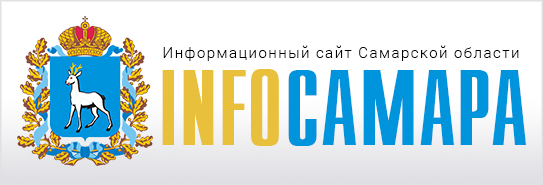

Оставить сообщение: