Рекламный баннер 990x90px bantop
Рассчитывать было не на кого
14:33 08.05.2025 16+
Рассчитывать было не на кого
Раннее сиротство, нужда и голод, горести и лишения военных и послевоенных лет — всё это довелось пережить Александре Ивановне Юркиной. Порой было невыносимо трудно, но она выстояла: и в профессии, и в семье состоялась достойно, и младшую сестру вырастила.
Мамин завет
«В июле 46-го мы с сёстрами остались одни на всём белом свете, — рассказала Александра Ивановна. — В детдом нас не определили, потому что хлопотать об этом некому было. Фаине в ту пору 16 лет исполнилось, мне — 13, а Нине — 6. Отец на фронте погиб в 42-м под Смоленском, через год бабушка умерла — горе её сломило, а потом — и мама. У неё был порок сердца, она предчувствовала свой уход и часто просила нас: «Девчонки, учитесь, это кусок хлеба. Только не бросайте сестрёнку». Мама 20 лет учителем проработала, и мы с Фаиной по её стопам пошли — окончили педучилище. Оно было в нашем селе Малый Толкай, это нас и спасло, ведь поехать куда-то учиться нам не на что было. Мы в такой нужде жили! Одежду донашивали, которую нам бабушка перешила из маминых платьев. Ходили в тапочках, которые она сшила из старой обуви. Наш дед сапожником был, всё умел — и туфли, и сапоги со скрипом, вот бабушка и переняла его умения. Дратвой, которую делала из конопли, валенки подшивала. Конопли в селе много сажали, из семечек масло били, жарили их, а сами растения вымачивали, мяли, чесали, пряли нити, холсты ткали, из которых нижнее бельё шили: мужчинам — портки, женщинам — юбки. Когда в училище поступила, эта бабушкина обувь уже развалилась, и я ходила в баллонных калошах, для тепла надевая и чулки, и шерстяные носки. К тому времени соседка мне сатиновое платье сшила — коричневое, блестящее. Так я радовалась ему! А на третьем курсе столовую открыли в училище, и мы с Фаиной хлеб не съедали, а сестрёнке его несли. Это ведь долгие годы было самым большим нашим желанием — поесть чистого хлеба. Мы на траве да на овощах с огорода росли. Лука, бывало, надёргаем, навяжем пучочки и в Подбельск на рынок идём. А это 10 километров от нас. Мешок продадим — 4 стакана соли принесём. Соль, спички да керосин главным богатством были. Однажды взбунтовалась я из-за голода: решила после четвёртого класса не сдавать последний экзамен — математику. Бабушка не ругала меня, не уговаривала, спокойно нарисовала картину, как все мои подружки в 5-й класс придут учиться, а я с четвероклассниками останусь. Я подумала, подумала: «Что лежать? Всё равно не наемся». Схватила чернильницу, ручку и бегом в школу. Экзамен уже шёл, но я быстро все задачки решила, всё успела.
Бабушкины наставления
Бабушка была очень мудрым человеком. Видела, как тяжело болеет наша мама, понимала, что ждёт нас доля сиротская, поэтому старалась передать и свои житейские умения, и умение не пасовать перед трудностями. А их столько выпало… В 46-м мы чудом выжили, наевшись ядовитых колосков, что оставались в поле после уборки. У кого были ручные мельницы, пекли из этой муки, а поев, умирали. Изо рта и из носа начинала идти кровь, которую было не остановить. А мы из тех зёрен кашу варили, поэтому яд не так быстро впитывался в желудок. Только губы у нас сильно опухали и во рту так болело, что дыханием его обжигало. 50 человек в нашем колхозе умерло. В войну многих вши мучили, а от них — и болезни разные. Но мы строго за чистотой следили. По субботам мазали волосы керосином, мыли их щёлоком: дровяную золу заливали кипятком, настаивали, процеживали, получалась мыльная вода. Этим же щёлоком стирали ватные куртки и штаны танкистов, которые нам в село привозили из госпиталя. По 10 пар и куску мыла раздавали на каждый двор под запись. А они в мазуте все. Пока ототрёшь, — руки в кровь. Но так радостно было, что солдаты наши в чистое и тёплое оденутся. А ещё мы для них варежки и носки вязали. Всё для фронта, всё для победы — это было самым главным. Поэтому всё терпели, как бы трудно ни было. Мы работали наравне со взрослыми, выполняли такую же норму. Сахарную свёклу пололи и прореживали — по ряду каждому давали, а ряд — 2 километра. До поздней осени убирали её. Мокро, грязно, холодно, а мы ботву обрезаем, в телеги складываем. Снопы за лобогрейкой вязали. Рожь высокая, колючая, все руки после неё в занозах.
Любовь к учёбе
Терпеливо сносили мы и то, что учились в холодных классах. Учителя ведь сами ездили в лес за дровами, а много ли они привезут. Чернила замерзали, поэтому непроливайки мы ставили в голландку прежде чем писать. На переменах учителя говорили: «Грейтесь!» И мы с радостью бегали, прыгали по партам. Я пошла в школу на год раньше, с 8 лет — очень уж мне хотелось учиться. Дома уроки делали при коптилках, писали за столом, а читали на печке — где теплее.
И в педучилище я с удовольствием и успешно училась, экзамены только на «4» и «5» сдавала, поэтому стипендию всегда получала. На эти деньги мы с Ниной и жили, когда Фаина уехала в Бугуруслан по распределению.
Пионервожатая
В 52-м году и я окончила училище. Наш выпуск направляли в Таджикистан учителями истории. А куда же я с младшей сестрой-то? Классный руководитель говорит: «Попадёшь в кишлак, — сестра не получит образования. Сейчас мест учителей нет, поэтому иди работать пионервожатой».
Направили меня в Кутулукскую среднюю школу. В ней — по три класса в каждой параллели, учились в две смены. До сих пор с благодарностью вспоминаю завуча Франца Викторовича Гинтова, инспектора районо, которые очень помогали мне. Нас ведь не учили, как должен работать пионервожатый, поэтому трудно было. Да и не нравилось мне это.
Клеветник
Через два года произошли перемены: и моя личная жизнь устроилась — я вышла замуж, и профессиональная — я стала учителем. Сестра Коли Юркина очень хотела нас познакомить, уговорила прийти на вечеринку по случаю его возвращения из армии. Ну, мы с подружкой и пошли — она физкультуру вела. Дело было 14 ноября. Я тогда и не знала, что это день памяти святых Космы и Дамиана, престольный праздник в Арзамасцевке. А вот один особо ярый коммунист, клеветник Иван Самсонов знал. Он незваным явился на ту вечеринку и набросился на нас: «Бессовестные! Учителя, комсомолки отмечают Кузьму и Демьяна!» Это он так праздник называл. Ему объяснили, по какому поводу все собрались, но он не успокоился: и в районо позвонил, и на комсомольском собрании велел меня разобрать, выговор в личное дело записать. Все прекрасно понимали, что я не виновата, но без внимания такие жалобы нельзя было оставлять в то время.
Работа
Эти его злобные нападки никак не сказались на моей репутации. Я прекрасно знала своё дело, с удовольствием, с полной отдачей работала учителем. А с 1969 по 1987 годы — и директором школы. Вот так всю жизнь — работа, работа, работа. Её всегда было много — и в школе, и дома, где ждал огород 25 соток, скотины полный двор. По-другому и не представляли своей жизни. Мы с сёстрами знали, что рассчитывать нам не на кого, поэтому всего добивались своим трудом. Слава Богу, на это хватило и сил, и характера.
Трудолюбие и желание учиться унаследовал и мой сын. Он окончил институт, работал строителем. Сейчас моя главная радость — внуки и правнуки. Они добрые, любящие и заботливые. А это — самое большое утешение в старости».
Подготовила Татьяна Пахомова.
Раннее сиротство, нужда и голод, горести и лишения военных и послевоенных лет — всё это довелось пережить Александре Ивановне Юркиной. Порой было невыносимо трудно, но она выстояла: и в профессии, и в семье состоялась достойно, и младшую сестру вырастила.
Мамин завет
«В июле 46-го мы с сёстрами остались одни на всём белом свете, — рассказала Александра Ивановна. — В детдом нас не определили, потому что хлопотать об этом некому было. Фаине в ту пору 16 лет исполнилось, мне — 13, а Нине — 6. Отец на фронте погиб в 42-м под Смоленском, через год бабушка умерла — горе её сломило, а потом — и мама. У неё был порок сердца, она предчувствовала свой уход и часто просила нас: «Девчонки, учитесь, это кусок хлеба. Только не бросайте сестрёнку». Мама 20 лет учителем проработала, и мы с Фаиной по её стопам пошли — окончили педучилище. Оно было в нашем селе Малый Толкай, это нас и спасло, ведь поехать куда-то учиться нам не на что было. Мы в такой нужде жили! Одежду донашивали, которую нам бабушка перешила из маминых платьев. Ходили в тапочках, которые она сшила из старой обуви. Наш дед сапожником был, всё умел — и туфли, и сапоги со скрипом, вот бабушка и переняла его умения. Дратвой, которую делала из конопли, валенки подшивала. Конопли в селе много сажали, из семечек масло били, жарили их, а сами растения вымачивали, мяли, чесали, пряли нити, холсты ткали, из которых нижнее бельё шили: мужчинам — портки, женщинам — юбки. Когда в училище поступила, эта бабушкина обувь уже развалилась, и я ходила в баллонных калошах, для тепла надевая и чулки, и шерстяные носки. К тому времени соседка мне сатиновое платье сшила — коричневое, блестящее. Так я радовалась ему! А на третьем курсе столовую открыли в училище, и мы с Фаиной хлеб не съедали, а сестрёнке его несли. Это ведь долгие годы было самым большим нашим желанием — поесть чистого хлеба. Мы на траве да на овощах с огорода росли. Лука, бывало, надёргаем, навяжем пучочки и в Подбельск на рынок идём. А это 10 километров от нас. Мешок продадим — 4 стакана соли принесём. Соль, спички да керосин главным богатством были. Однажды взбунтовалась я из-за голода: решила после четвёртого класса не сдавать последний экзамен — математику. Бабушка не ругала меня, не уговаривала, спокойно нарисовала картину, как все мои подружки в 5-й класс придут учиться, а я с четвероклассниками останусь. Я подумала, подумала: «Что лежать? Всё равно не наемся». Схватила чернильницу, ручку и бегом в школу. Экзамен уже шёл, но я быстро все задачки решила, всё успела.
Бабушкины наставления
Бабушка была очень мудрым человеком. Видела, как тяжело болеет наша мама, понимала, что ждёт нас доля сиротская, поэтому старалась передать и свои житейские умения, и умение не пасовать перед трудностями. А их столько выпало… В 46-м мы чудом выжили, наевшись ядовитых колосков, что оставались в поле после уборки. У кого были ручные мельницы, пекли из этой муки, а поев, умирали. Изо рта и из носа начинала идти кровь, которую было не остановить. А мы из тех зёрен кашу варили, поэтому яд не так быстро впитывался в желудок. Только губы у нас сильно опухали и во рту так болело, что дыханием его обжигало. 50 человек в нашем колхозе умерло. В войну многих вши мучили, а от них — и болезни разные. Но мы строго за чистотой следили. По субботам мазали волосы керосином, мыли их щёлоком: дровяную золу заливали кипятком, настаивали, процеживали, получалась мыльная вода. Этим же щёлоком стирали ватные куртки и штаны танкистов, которые нам в село привозили из госпиталя. По 10 пар и куску мыла раздавали на каждый двор под запись. А они в мазуте все. Пока ототрёшь, — руки в кровь. Но так радостно было, что солдаты наши в чистое и тёплое оденутся. А ещё мы для них варежки и носки вязали. Всё для фронта, всё для победы — это было самым главным. Поэтому всё терпели, как бы трудно ни было. Мы работали наравне со взрослыми, выполняли такую же норму. Сахарную свёклу пололи и прореживали — по ряду каждому давали, а ряд — 2 километра. До поздней осени убирали её. Мокро, грязно, холодно, а мы ботву обрезаем, в телеги складываем. Снопы за лобогрейкой вязали. Рожь высокая, колючая, все руки после неё в занозах.
Любовь к учёбе
Терпеливо сносили мы и то, что учились в холодных классах. Учителя ведь сами ездили в лес за дровами, а много ли они привезут. Чернила замерзали, поэтому непроливайки мы ставили в голландку прежде чем писать. На переменах учителя говорили: «Грейтесь!» И мы с радостью бегали, прыгали по партам. Я пошла в школу на год раньше, с 8 лет — очень уж мне хотелось учиться. Дома уроки делали при коптилках, писали за столом, а читали на печке — где теплее.
И в педучилище я с удовольствием и успешно училась, экзамены только на «4» и «5» сдавала, поэтому стипендию всегда получала. На эти деньги мы с Ниной и жили, когда Фаина уехала в Бугуруслан по распределению.
Пионервожатая
В 52-м году и я окончила училище. Наш выпуск направляли в Таджикистан учителями истории. А куда же я с младшей сестрой-то? Классный руководитель говорит: «Попадёшь в кишлак, — сестра не получит образования. Сейчас мест учителей нет, поэтому иди работать пионервожатой».
Направили меня в Кутулукскую среднюю школу. В ней — по три класса в каждой параллели, учились в две смены. До сих пор с благодарностью вспоминаю завуча Франца Викторовича Гинтова, инспектора районо, которые очень помогали мне. Нас ведь не учили, как должен работать пионервожатый, поэтому трудно было. Да и не нравилось мне это.
Клеветник
Через два года произошли перемены: и моя личная жизнь устроилась — я вышла замуж, и профессиональная — я стала учителем. Сестра Коли Юркина очень хотела нас познакомить, уговорила прийти на вечеринку по случаю его возвращения из армии. Ну, мы с подружкой и пошли — она физкультуру вела. Дело было 14 ноября. Я тогда и не знала, что это день памяти святых Космы и Дамиана, престольный праздник в Арзамасцевке. А вот один особо ярый коммунист, клеветник Иван Самсонов знал. Он незваным явился на ту вечеринку и набросился на нас: «Бессовестные! Учителя, комсомолки отмечают Кузьму и Демьяна!» Это он так праздник называл. Ему объяснили, по какому поводу все собрались, но он не успокоился: и в районо позвонил, и на комсомольском собрании велел меня разобрать, выговор в личное дело записать. Все прекрасно понимали, что я не виновата, но без внимания такие жалобы нельзя было оставлять в то время.
Работа
Эти его злобные нападки никак не сказались на моей репутации. Я прекрасно знала своё дело, с удовольствием, с полной отдачей работала учителем. А с 1969 по 1987 годы — и директором школы. Вот так всю жизнь — работа, работа, работа. Её всегда было много — и в школе, и дома, где ждал огород 25 соток, скотины полный двор. По-другому и не представляли своей жизни. Мы с сёстрами знали, что рассчитывать нам не на кого, поэтому всего добивались своим трудом. Слава Богу, на это хватило и сил, и характера.
Трудолюбие и желание учиться унаследовал и мой сын. Он окончил институт, работал строителем. Сейчас моя главная радость — внуки и правнуки. Они добрые, любящие и заботливые. А это — самое большое утешение в старости».
Подготовила Татьяна Пахомова.
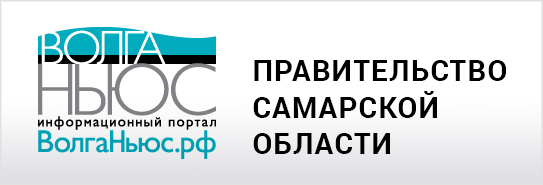
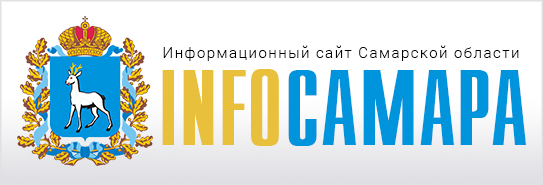

Оставить сообщение: